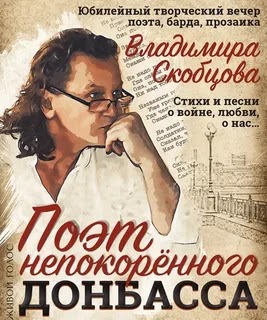В 1829 году Александр Сергеевич Пушкин совершил путешествие на юг России и Кавказ, направляясь в Арзрум. По пути он пересек степи Калмыкии — земли, населённые кочевым народом с богатой культурой и традициями. Именно здесь поэт написал стихотворение «Калмычке», в котором отразил свои впечатления о встрече с калмыцкой девушкой и о жизни степного народа. Это произведение, а также его опыт знакомства с и бытом калмыков, позволяют глубже понять культурный колорит степей и отношение Пушкина к новым для него реалиям.
Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, назло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки, |
| Памятник А.С. Пушкину в Элисте |
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ма dov’e
Чуть-чуть, назло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ма dov’e
Галоп не прыгаешь в собранье…
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?
1829 г.
Стихотворение «Калмычке» посвящено образу молодой калмыцкой девушки, с которой Пушкин встретился в пути. Поэт чуть было не последовал за её кочевой кибиткой:
Чуть-чуть, назло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Главная мысль произведения — восхищение простотой, природной красотой и искренностью степной девушки, живущей в суровых условиях кочевого быта. Пушкин подчёркивает её естественную грацию и внутреннюю силу, присущие людям степи, и одновременно выражает лёгкую грусть и ностальгию по быстротечности мгновений встречи.
В стихотворении чувствуется уважение к традициям и культуре калмыков, а также интерес к их образу жизни, отличному от привычного для русского поэта. «Калмычке» — это своего рода символ встречи двух миров: русского и степного, оседлого и кочевого, европейского и азиатского.
Пушкин описывает, как попробовал калмыцкий чай во время путешествия, когда встретил калмыков. В котле варился напиток с молоком, бараньим жиром и солью. Этот напиток предложила поэту молодая калмычка. Поэт выпил чай, но он ему не понравился: «Не думаю, чтобы кухня какого б то ни было народа могла произвести что-нибудь гаже».
Калмыцкий чай в XIX веке существенно отличался от привычного русского чая. Он готовился на основе мясного бульона и молока, крепко заваренного зелёного чая с добавлением соли, масла. Мясо варилось не в воде (её в степи было в обрез), а в молоке. Такой напиток был питательным и согревающим, что было важно для кочевников, живущих в суровых климатических условиях полупустыни.
Калмыцкий чай представлял собой густой, маслянистый напиток с необычным вкусом, который европейцам и русским путешественникам мог показаться непривычным и даже неприятным. Пушкин не оценил этот напиток, что отражает различия в культурных привычках и восприятии и вполне естественно.
Современный калмыцкий чай, думаю, Александру Сергеевичу понравился бы. В Элисте мы купили плиточный зелёный чай (именно плиточный чай по традиции нужен для приготовления калмыцкого чая). Товар сопровождается вот таким любопытным рецептом.